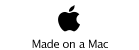Статьи

БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА. ГЛОССАРИЙ
Далекая страна мечты, где каждый сам свой архитектор.
Роберт Браунинг. Страна красных колпаков, 1873
Бумага
Бумагу изобрели в Китае две тысячи лет назад. Через тысячу лет бумага появилась в Европе. Можно было бы говорить, что архитектура на бумаге как раздел проектной графики, изображающей архитектуру непостроенную, существовала всегда, столько же, сколько существует архитектура, или хотя бы тысячу лет, но чисто технически, бумажной она стала недавно, во времена Ренессанса, то есть лет пятьсот назад. Древние египтяне для своих чертежей использовали папирус, древние римляне изображали планы своих строений во фресках, древние греки процарапывали рабочие чертежи на камнях строящихся храмов — о последних мы почти ничего не знаем, поскольку по окончании строительства эти чертежи-лапидарии зашлифовывались.
Виллар де Оннекур, средневековый зодчий, оставивший нам в наследство альбом архитектурных чертежей, рисовал на пергаменте. Трактат Об архитектуре Леона Баттиста Альберти, манускрипт, изначально написанный и иллюстрированный на бумаге, стал в 1485м книгой - первым печатным изданием, посвященным архитектуре.
Институт
В нашем (Московском архитектурном) институте к бумаге было специальное отношение. Не эстетическое — дефицитный гознаковский ватман с водными знаками ценился только у неофитов-первокурсников, — а скорее прикладное, так — расходный материал: рулонный ватман продавался по спискам ко времени сдачи курсовых проектов, и тогда институтский паркет, как река льдинами, покрывался мокрыми натянутыми подрамниками. На подрамниках чертили, отмывали, красили, клеили — бумага должна была все стерпеть — это и было ее основным качеством. Выражение «бумажная архитектура» — оксюморон с негативной коннотацией, рудимент времен полемических войн между архитектурными группировками 1920-х — родилось не в институте, хотя в последнем по определению ничем иным, кроме бумажной архитектуры, не занимаются. Тем не менее впервые я услышал его от кого-то из своих учителей, вероятно, так прививавших студенту способность отличать реальное от воображаемого на вестибулярном, так сказать, уровне.
Рисунок
Архитектурный рисунок — специфический «линейный», «проволочный», или как бы сейчас сказали, wired, — до сих пор культивируется в МАРХИ вместе с еще одним анахронизмом времен École des Beaux-Arts — «отмывкой» тушью. Такой рисунок остается с архитектором на всю жизнь как средство коммуникации с заказчиком, строителем, подмастерьем для рисования кроки — наскоро сделанных эскизов проектируемого объекта. Художественной ценности чаще всего не представляет, а эскизы мастеров архитектуры сами по себе, без проектов и построек, обычно никого не интересуют. Есть еще рисование архитектуры с натуры, чаще всего практикуется как учебное задание, часто предметом изображения становятся исторические здания и руины, но этот жанр лучше удается художникам… А есть так называемая архитектурная подача — специфическая чертежная графика, в основном адресуемая профессионалам, — планы, разрезы, фасады, перспективы будущего сооружения. У мастеров архитектуры подача, то есть репрезентация проекта — дело сугубо индивидуальное: «рентгеновскую» графику Леонидова, вдохновлявшегося таблицами Kunstformen der Natur Эрнста Геккеля, не спутаешь с «орнаментальной» графикой коллекционировавшего морские раковины Ле Корбюзье. Бумажная архитектура — это проектная графика, рассчитанная по своей конкурсной натуре прежде всего на оценку архитектурного жюри и публикацию в профессиональном журнале. Архитектура для архитекторов.
Капелла
Капелла Нотр-Дам-дю-О — гениальное сооружение, совсем не такое монументальное, как на виденных прежде фотографиях, трогательное в своей привязанности к месту, которое фотографы большей частью не передают, многообразное по числу изобретенных приемов. Там, в местечке Роншан, вдруг осознаешь: вот он, первоисточник бесчисленных архитектурных и оформительских цитат, и приходится делать усилие, чтобы освободиться от наносных штампов, приобретенных раньше оригинала. В капелле чудесное пространство мелодичного света, он и освещает, и исходит, и, в алтаре, улавливает.
Ле Корбюзье, кстати, хвалился, будто это здание построено буквально по первому эскизу. Действительно, в эскизе даже нарушений пропорций нет никаких, как будто он рисовался с натуры. Некоторые, правда, утверждают, что Корбюзье с натуры и нарисовал. Вполне вероятно, я думаю. Он, можно сказать, был первой архитектурной звездой, и ему были свойственны некоторые залихватские приемы медийного поведения.
Дом
В нем нет ничего арбатского, в этом доме в Кривоарбатском переулке. Пчелиные соты, свернутые в двухцилиндровый донжон, — по образу, конечно, улей, а не дом, хотя на фасаде улья и написано, что его строил архитектор Константин Мельников, а не пчела. Этому дому вообще безразличны и Арбат, и Москва, он мог бы стоять и на Лазурном побережье, и на альпийском горном лугу. Московским домом его делает запах советского быта с клеенками, салфетками, скатертями, занавесками, половиками и ковром. Фасад, спроектированный для улавливания солнечного света в российских сумерках, не предназначен для праздного разглядывания. Этот дом, спрятанный за забором в глубине участка, вообще не для смотрения. Из сотовых окон не открывается, в отличие от виллы ротонды Палладио или дома Шредер Ритвельда, дальних видов на природу или город. Есть только сквозной витраж в гостиной, открытый на улицу. В доме всегда светло, свет отражается перегородками-экранами, меняется с движением солнца по небу, растворяется в сфумато, когда солнца нет. Через шестьдесят лет после Мельникова подобный светоулавливающий механизм применил Жан Нувель в Институте арабского мира. Чертежи мельниковского дома лишены всякого визионерства, в пояснительной записке нет ни слова про свет, только про кирпичную кладку, деревянные перекрытия и винтовую лестницу.
Окна
Виктор Владимирович Лебедев, учившийся в начале 1930-х в Ленинградской академии художеств, рассказывал о своей встрече с Леонидовым. Дело было на какой-то выставке конкурсных проектов домов-коммун, в которой Леонидов участвовал. Макет его дома-коммуны был без окон. Страшно волнуясь, студент Лебедев (он был всего на семь лет моложе, но Леонидов в свои тридцать уже был архитектурной звездой и кумиром молодежи, а Лебедев только начинал учиться) решил выяснить у Ивана Ильича, как же так, дом без окон? «Знаете, я пробовал [с окнами], — ответил Леонидов на вопрос студента, — пестрят». Трудно понять, о каком леонидовском проекте идет речь — в тридцатые домов-коммун уже не проектировали, а те жилые здания, что Леонидов проектировал, были вполне себе с окнами. Сочиненная эта история или реальная — кто знает? В любом случае она замечательно характеризует и Леонидова, и сочинителей, а равно и разницу между реальностью и вымыслом в архитектурном проектировании.
Кризис
В мировой архитектурной практике всегда только и разговоров, что о кризисе. В советской архитектуре ни разговоров, ни кризиса как бы никогда не было, а когда о нем открыто заговорили, то Советский Союз приказал долго жить. Когда рассуждают о кризисе, подразумевают, что проектные решения предыдущих поколений себя исчерпали, что новое поколение архитекторов предложит новые пути развития. То, что студенчество нового поколения берет уроки у учителей из поколения предыдущего, обычно не обсуждается.
То, что шахматисты постоянно обращаются к одним и тем же дебютам, не говорит об исчерпанности шахмат. То, что люди иногда перестают самостоятельно мыслить, не говорит об исчерпанности возможностей человеческого мозга. Я не думаю, что архитектура зашла в тупик. Кризис — не тупик.
В 1970–1980-е наступил кризис коммуникации — вдруг выяснилось, что язык модернизма мало кому понятен, кроме его носителей, и архитекторы заговорили на разных других, заговорили буквально, то есть словесно и описательно, используя исторические аллюзии, благо в архитектурных школах история — часть учебного процесса. Новая коммуникация при всей ее внутренней энциклопедической изощренности была адресована не столько профессиональному цеху, сколько обществу потребления цеховой продукции.
Предпосылки
Эстетические предпосылки обращения архитекторов к проектированию «в стол» вполне объяснимы. В конце 1970-х в архитектурный институт пришел глянцевый, журнальный, чужеродный постмодернизм. Между прочим, хорошо помню разочарование, когда в конце 1980-х мы увидели постройки модных в то время архитекторов вживую. Ужасно тогда расстроил Майкл Грейвс в Портленде — насколько его архитектура оказалась плоской, почти как новое здание комитета госбезопасности на Лубянке в сравнении с лангмановским. Оказалось, что архитектура фотоизображению и даже рисунку не обязательно следует, даже если нарисовано изысканно и интеллигентно. Советский Союз называли страной с непредсказуемым прошлым, и постмодернизм с историческими аллюзиями в 1980-е стал для молодых архитекторов идеальной камерой-люцидой-машиной-времени для проектирования в стилях неизведанного прошлого в диапазоне от греческих храмов, которых никто тогда кроме как в книжках Н.И. Брунова не видел, до супрематических и конструктивистских утопий, которые широкой публике были чудесным образом явлены лишь однажды, на выставке «Москва — Париж» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Проект
Распространенное сейчас слово «проект» в 1980-е было в инструментальном словаре немногих профессионалов, и этими профессионалами были по преимуществу архитекторы. В архитектурном институте проектом называлась основная дисциплина, мы «ходили на проект», «сдавали проекты», «защищали проекты», у нас были дни «сплошного проектирования» — «сплошняки», когда перед сдачей курсового проекта все получали освобождение от других занятий. Можно сказать, что мы проектировали нон-стоп. Потом появились японские конкурсы, и проекты стали посылать почтой, а позже выставлять публично. А потом, в 1990-е, project’ом, по-английски, стало называться все, что планируется, вплоть до «чеса» поп-группы по провинции.
Похожая метаморфоза произошла со словом «куратор», которым до конца советской власти именовались только кураторы комитета госбезопасности. Все мои занятия бумажной архитектурой в 1980-е — конкурсы и выставки, архивирование, экспонирование, администрирование, каталоги, лекции, интервью и прочее в этом роде — я считал своей общественной работой, но не кураторством, потому что не было в советском искусствоведении такого понятия. В середине 1990-х Виктор Мизиано открыл Школу молодого куратора, и кураторов в России теперь едва ли не больше, чем художников.
И, конечно, я верю, что понятие «проект» пришло в современное искусство из архитектуры. Интересно, было ли оно в глоссарии Марселя Дюшана?
Конкурсы
То, что в 1980-е у нас случился бум бумажной архитектуры, — во многом случайность, связанная с японскими журнальными конкурсами. Это были конкурсы на архитектурную идею, никакой реализации в них не предполагалось. Проводились они регулярно с середины 1960-х годов, если не раньше, журналом The Japan Architect на темы, похожие на наши курсовые, вроде «поселка на склоне горы на 3 тысячи жителей». В 1975 году журнал пригласил молодого прогрессивного архитектора Арату Исодзаки возглавить один из текущих конкурсов, и Исодзаки резко концептуализировал рутинную конкурсную эпопею, назвав свой конкурс «Дом для суперзвезды». В нем приняли участие такие архитектурные звезды, как Ханс Холляйн или Пьеро Фрассинелли из Superstudio, кто-то спроектировал свой дом в форме «Харлея-Дэвидсона», кто-то — мавзолея Ленина, а первую премию получил известный сегодня австралийский архитектор Том Хенеган, который вообще ничего не спроектировал, зато предложил дом для суперзвезды кино Ракель Уэлч, «самой желанной женщины 1970-х», в виде журнальной рецензии. То есть чтобы понять, о чем идет речь в архитектурных публикациях того времени, советскому студенту требовалось знать английский, иметь представление о современном искусстве и поп-культуре и осознавать, как все это может сложиться в архитектуру. И, разумеется, знаний катастрофически не хватало, железный занавес практически наглухо закрывал нам окно в мир, а стремление вырваться, как в детстве, из дома на улицу, было велико. Но до 1981 года в международные конкурсные игры кроме нас играли все, кто хотел, журнал результаты победителей исправно публиковал, а студентам в московском архитектурном институте только и оставалось, что заглядываться на стеклянный шкафчик в отделе редких книг институтской библиотеки, где лежало несколько иностранных журналов и среди них The Japan Architect.
Союз архитекторов
В 1981 году случилось одно «судьбоносное» для бумажной архитектуры событие — в Союзе архитекторов сменилось начальство: пришли новые секретари, председателем стал Анатолий Трофимович Полянский. И решил он встретиться с молодежью, ответить на ее вопросы — понять, так сказать, чаяния. Вопросов было, насколько помню, пять, например: молодежь уходит из профессии. Что вы предлагаете делать, чтобы повысить престиж профессии? Был и вопрос о конкурсах, и как раз я его по заданию молодежной секции готовил. Анатолий Трофимович начал отвечать: мы не участвуем потому, что идет идеологическая война, нас плохо судят, кроме того, надо платить вступительные взносы, а у нас нет валюты, и прочее. Я, ужасно волнуясь, стал ему возражать, приводя в пример наших гимнасток и боксеров, которых тоже засуживают, и тем не менее наши спортсмены в олимпиадах участвуют и выигрывают, тем самым повышая престиж советского спорта. А что до вступительных взносов, то на журнальные конкурсы их вообще не требовалось. Он не нашелся (вопрос оказался на засыпку), —озадаченно спросил: а какие такие конкурсы? Я о них не слышал. А у меня уже был список из нескольких анонсированных конкурсов: вот вам и список. Ну что же, сказал Полянский, давайте попробуем...
И мы попробовали — стали отправлять через Союз без лишних формальностей. Опуская детали, скажу, что начиная с 1982 года отправка превратилась в рутину, число участников стало расти в геометрической прогрессии. Кстати, художники попытались повторить эту схему у себя, но у них, несмотря на внешнюю простоту, ничего не вышло — идеологический барьер в Союзе художников оказался выше архитектурного. Союз архитекторов тоже по-своему участвовал — секретари отсматривали проекты перед международным почтамтом, было несколько случаев цензуры, но несмертельной. Одна из таких историй — это программный проект Миши Филиппова на «Стиль 2001 года»: кто-то из секретарей разглядел в его ретроидиллических картинках какие-то церковки и просто истерику устроил: у нас церковь отделена от государства. Я с этим проектом ходил к секретарю по идеологии Рябушину, упрашивая его разрешить отправку — упросил, и проект ушел. В этом же конкурсе я участвовал со своим «Городом-клубом» на Нагорной улице, и мы с Филипповым получили по первой премии.
Кукольный дом
Куклы появились примерно 40 тысяч лет назад. Делались они в виде амулетов по образу и подобию людей, но часто представляли богов. Довольно скоро бездомным куклам, как и живым людям, понадобилось жилье, а богам, в свою очередь, понадобились храмы. Дома для кукол строились для того, чтобы персонифицируемым куклами людям было где жить в царстве мертвых. Храмы строились для репрезентации богов в мире живых. Живые и мертвые связывались архитектурой. Например, у этрусков урны с прахом нередко изображали жилища. Урны и домовины росли в размерах и вырастали в саркофаги и мавзолеи. Колумбарии становились прообразом многоквартирного жилья. Во времена Ренессанса архитекторы изготавливали макеты будущих палаццо, огромные и тяжелые, как шкафы из ценных пород дерева. В таких сооружениях могли бы жить дети или гномы. Изготовление кукол долго оставалось изделием штучным, ремесленным. Так продолжалось до XVIII века, до победы индустриальной революции, наладившей производство кукол, кукольных домиков и аксессуаров к ним, преимущественно из фарфора. Сакральная связь между мирами мертвых, живых и богов прервалась.
В 1940-е годы американка Фрэнсис Глесснер Ли стала строить кукольные домики c тщательно воспроизведенными сценами реальных убийств. Сейчас эти домики служат учебным пособием для студентов-детективов, а также время от времени выставляются в музеях как художественные объекты.
«Кукольный дом» — конкурс журнала AD 1982 года — стал первым, на который проекты из СССР были отосланы легально, от Союза архитекторов. 62 финалиста, как приглашенные мировые знаменитости, так и прошедшие сквозь конкурсный отбор архитекторы представляли дома-игрушки, дома-конструкторы, дома-алтари и дома-макеты. Первых мест мы на том конкурсе не получили, но в каталог и на благотворительный аукцион Sotheby’s (за пять лет до известного у нас аукциона современного искусства) несколько проектов попали.
Почта
Послать проект на конкурс — это прийти на международный почтамт и отправить один-два листа ватмана, свернутых в тубус, по японскому адресу за неделю до дедлайна. Но для того, чтобы куда-то за границу отправить статью или рисунок, по советским правилам требовалось получить массу согласований, в том числе с комитетом госбезопасности и главлитом, то есть военной цензурой. В архитектурных идеях, не привязанных к конкретным местам, ничего секретного не было, однако коммуницировать с Западом без разрешения не полагалось. В 1981 году нам это сделать удалось — мы отправили десяток проектов на текущий конкурс под названием «Дом-экспонат на территории музея XX века», отправили полулегально, через международную редакцию журнала «Советская женщина» (необходимые разрешения получили месяца через два, после того, как посылка была доставлена) — и один из проектов, Миши Белова и Макса Харитонова, получил первую премию, и это было как взрыв в секции мягких игрушек — никто не ожидал такого эффекта. Впоследствии удалось поставить отправку конкурсных проектов на поток — оказалось, что достаточно одной бюрократической справки вместо десятка бумаг, — и проекты потекли в Японию сотнями. По числу участников и по числу победителей советские молодые архитекторы шли за японцами на втором месте. Ажиотаж растянулся с 1981-го года на семь лет, в 1988-м участников с нашей стороны почти не было. Бумажную архитектуру иногда относят к достижениям перестройки, но это не так. Перестройка позволила перейти от участия в международных конкурсах к организации выставок по всему свету, но она же бумажную архитектуру вместе со всем Советским Союзом и похоронила, то есть проводила в последний путь.
Юность
За несколько лет число побед на международных конкурсах архитектурных идей достигло настолько заметной цифры, что об этом заговорили, и возник общественный заказ на выставку. Такая выставка под названием «Бумажная архитектура» открылась 1 августа 1984 года в редакции журнала «Юность» на площади Маяковского. Выставили все, что смогли, не только конкурсные концепции, но и оформительские проекты, плакаты, акварельные фантазии… у кого, что было, но публика, в основном из располагавшегося по соседству Моспроекта, массово пошла смотреть работы победителей японских конкурсов. Было несколько обсуждений, на одном из которых появился выпускник МАРХИ поэт Андрей Вознесенский, назвал выставку «сублимацией отчаяния» и призвал участников ехать работать по специальности «в глушь, в Саратов». На другом выступал теоретик Александр Раппапорт, он предложил отказаться от участия в конкурсах как от заказного и самим авторам находить темы для творческой рефлексии, тут же предложив свою: «Блик в архитектуре».
Выставка не стала манифестом — слишком пестрым оказался и состав участников, и список выставленных работ, слишком даже для модного в то время плюрализма, так что манифестом стало одно название. Мы с Мишей Филипповым попытались написать к выставке декларацию, которая в итоге называлась «вместо манифеста». Она после выставки надолго запропала, и все, что я из нее долгое время помнил — это признание, что мы делаем не проекты, а «проекты проектов». Это определение как характеристика бумажной архитектуры до сих пор мне кажется важным.
Название
Название выставки родилось почти случайно, когда мы с Андреем Савиным макетировали выставочный проспект, резали и клеили набранные тексты — в такой коллажной технике готовились тогда макеты для типографии, — макетировали в последний момент, когда времени на согласования с товарищами уже не было. Можно сказать, что решение назвать выставку «бумажной» появилось благодаря полиграфическому процессу «клей — ножницы». И хотя была еще альтернатива назвать выставку «станковая архитектура», прилагательное «бумажная» подошло архитектуре больше — бумага, как в известной игре, победила камень. Вигдария Эфраимовна Хазанова, специалист по архитектуре авангарда, идею назвать выставку профессиональным ругательством поддержала. И оно сразу село на негодную к строевой фигуру как специально пошитое… А Селим Омарович Хан-Магомедов, известный исследователь 1920-х, пытался задним числом отговаривать: «Название эпатирующее, а у вас и без того хорошие работы. Не надо, знаете ли, раскачивать лодку, нас всех и так тошнит». Он действительно высоко оценил явление бумажной архитектуры, поставив ее в один ряд с русским архитектурным авангардом 1920х и сталинским неоклассицизмом 1930-х.
Музей
В 1985‑м в Москве состоялся фестиваль молодежи и студентов. В ЦДХ была устроена выставка молодых советских архитекторов: построек и проектов, среди которых было довольно много конкурсных, «бумажных». Нас пригласили с этой выставкой в Любляну, в передовую галерею ŠKUC, и, таким образом, в 1986‑м состоялась первая зарубежная выставка бумажной архитектуры. Ну, а «далее — везде» — выставки в Архитектурной ассоциации в Лондоне, в Ля Виллет в Париже, в Немецком музее архитектуры во Франкфурте, в Архитектурном фонде в Брюсселе, в Цюрихе, турне по четырем университетам в Америке… После Америки в 1992 году выставка вернулась в Москву, я устроил последний, как мне казалось, показ в МАРХИ, назвал «Бумажная архитектура: Alma Mater» и приготовился выставку расформировывать, но тут возник Столичный банк сбережений, который в тот момент активно создавал собственную коллекцию. Ее куратором была Марина Лошак. Так лучшая, отборная часть бумажной архитектуры оказалась в частной собственности. Через десять лет, когда владелец банка по известным политическим причинам стал избавляться от разнообразных активов, коллекция по моему предложению переехала в Русский музей, где ее с удовольствием принял Александр Боровский и его отдел новейших течений.
Fin de siècle
Последняя выставка в МАРХИ оказалась не последней в истории бумажной архитектуры, но это уже была действительно история — история искусства. До конца 1980-х путешествующая выставка прибавлялась новыми работами, а позже — уже нет. Закат движения случился по разным причинам: и потому, что все хорошее когда-нибудь кончается; и потому, что в 1990-е архитекторы в России по большей части были заняты материальным выживанием — тут не до творческих экспериментов; и потому, что век бумаги как материала для архитекторов завершился — на смену кульману, бумаге, кальке, туши, карандашу, рейсфедеру, рапидографу, ластику пришли компьютерные мыши, мониторы и имиджи. Так что бумажной архитектуре оказалось самое место там, где она лучше всего хранится, то есть не на стройплощадке, а в музее. И символично, что ее закат пришелся на конец века и тысячелетия.
Инсталляция
Когда я впервые услышал слово «инсталляция»? В 1988 году Саша Бродский с Ильей Уткиным строили ресторан «Атриум» на Ленинском проспекте, а я делал выставку бумажной архитектуры на Триеннале в Милане. И та, и другая инсталляция включали в себя высокие колонны: у меня металлические рельефные (листы облицовки мы делали вместе с Сергеем Шутовым), у Бродского — Уткина — гипсовые штрихованные. И та и другая работа, строго говоря, инсталляционными произведениями не являлись, поскольку имели прикладной характер: одна — выставки, другая — ресторанного интерьера. Вместе с тем, каждая проектировалась по законам жанра как специфически привязанная к месту сценография. Колонный зал «Атриума» весьма напоминал, даже пародировал вестибюль станции метрополитена, колонны в Милане срисовывались, опять же пародийно, с могэсовских труб, и из них, как из духовых инструментов, звучала советская маршевая музыка. Пространства, конечно, колоннами и в том и в другом случае оккупировались, можно сказать, что трансформировались или, скорее, деконструировались, хотя их границы оставались неизменными.
К концу 1980-х счет на инсталляции был открыт и бодро пополнялся — и те же колонны, и «Чемпионы мира», и шутовский Брежнев под роялем — на «Ассе» в МЭЛЗе и на следующий год на «Черной розе…» (это кинопремьеры Сергея Соловьева, где у нас была полная свобода) моя La Cupola, la Gondola. А Бродский с Уткиным тогда же силами форматоров Вучетича стали строить гипсовые инсталляции на Западе, первая из которых делалась для выставки в голландском Форте Асперен, а уже следующая, с огромным яйцом из их японского проекта «Остров стабильности», — для галереи Рональда Фельдмана в Нью-Йорке.
Архитектура как искусство
Прежде всего архитектура дает искусству само пространство, его масштаб.
Чем больше я размышляю о связях искусства с наукой, природой, музыкой, литературой, тем больше уверяюсь, что дело вообще не в профессиях, а в личностях — искусство развивается усилиями уникальных людей, а не цеховых конфессий. В 1920-е годы концентрация талантов в нашей стране была необыкновенно высока, что несомненно отражалось на «предметно-пространственной среде», по выражению Хан-Магомедова. Архитектура того времени была многим обязана художникам Татлину и Малевичу. Заметим, что для того, чтобы влиять, необязательно было знать лично или дружить, флюиды творчества передавались насыщенным эфиром.
Вообще-то развитие той или другой дисциплины происходит по собственным законам, и ожидать, что кто-то со стороны вдруг окажется в центре чужеродной проблематики, не приходится. А вот расширение собственных границ, как и завоевание чужих земель, происходит сплошь и рядом.
Самое интересное случается не тогда, когда кто-то, архитектор или музыкант, создает произведение изобразительного искусства — это, в конце концов, дело внутреннее, — а когда вещь, создаваемая в рамках одной профессии, свою цеховую принадлежность преодолевает. Так случилось с бумажной архитектурой, когда архитектуру стали представлять на художественных выставках.
Архитектура для архитекторов
Бумажная архитектура, как искусство для искусства, хороша до тех пор, пока не требует реализации, ведь то, что нужно демонстрировать заказчику, не требует красоты изобразительной. Только изображаемой. Заказчик вообще не обязан разбираться в искусстве. Ему нравятся правдоподобные компьютерные рендеры, архитектура в его представлении должна максимально соответствовать нарисованной картинке (и наоборот).
Бумажная архитектура — производное от популярного в 1970–1980-е синтеза искусств, последний сочинительский жанр в нашей архитектуре, в котором она, не претендуя на звание «матери всех искусств», могла быть комендантом общежития творческих работников. Бумажные архитекторы заведовали пространством, «расселяя» в своих проектах кто кого хотел, кому симпатизировал: актеров, циркачей, танцоров, музыкантов, друзей и знакомых, вовсе не квартирантов доходных домов. Пространство в таком проекте воображалось и обживалось, а не захватывалось и приспосабливалось.
Искусство и архитектура
Меня всегда занимала обратная перспектива. И избыточной символоемкостью, и геометрией, близкой к любимым в модернизме аксонометриям. Вы не обращали, кстати, внимания на то, что кроки художников в работе с подмастерьями редко когда рисуются в прямой перспективе?
Не так много архитекторов занимаются изобразительным искусством, и почти никто из художников серьезно не увлекается архитектурой. Заветный объект проектирования для архитекторов — это музей, равно как для художников музей — это заветное место для хранения и демонстрации своих произведений. Здесь архитекторы с художниками встречаются, здесь и расстаются, поскольку выставочное пространство теми и другими переживается по-разному. Художник то, что он создает, коллекционирует, ценит, в своем пространстве обустраивает, проживает и переживает. Архитектор же — конструирует, но в пространстве не живет, не населяет, только прибывает и убывает, как командировочный. Для одного пространство — это жена, для другого — любовница. Поэтому, с одной стороны, архитектору легче сохранить холодную голову, а с другой — суггестивного, населенного призраками, в сугубо архитектурных пространствах не бывает. Может быть, это вообще не проблема профессии, а стратегия работы — извне и изнутри.
Цирк и театр
Цирк (от латинского слова «круг») — «вид зрелища» (интересная тавтология), в котором артисты находятся внутри круга, а зрители кольцом располагаются снаружи. Архитектурно цирк представляет собой круглую арену, накрытую шатром, шапито. Так же устроено и капитальное сооружение. Слово театр греческого происхождения, переводится как «смотрю, вижу» — тоже вид зрелищного искусства. Архитектура театра не меняется с 1545 года, когда ее по законам прямой перспективы расчертил Себастьяно Серлио. Можно сказать, что Серлио реконструировал греческий театр, сохранив амфитеатр для зрителей, но значительно углубив сцену. Все, что находилось теперь на сцене, должно было строиться в перспективном сокращении для придания открывающемуся виду иллюзорного правдоподобия.
Если предположить, что театр — это модель архитектуры, в которой зритель независимо от места, занимаемого им внутри зала, отчетливо и ясно видит одну и ту же картину, то такую архитектуру с осями, лучами и симметрией можно назвать традиционной, классической. Картина, которую видят зрители в цирке, принципиально другая — их коллективный глаз видит клоуна или акробата одновременно со всех сторон. То есть глядя на затылок клоуна, зритель знает, что у того красный нос. Цирковое зрелище, таким образом, строится по законам не прямой, а, скорее, обратной, иконной перспективы, когда к изображению добавляется еще знание. Это архитектура модернизма.
Интересно, что в составе участников бумажной архитектуры было поровну традиционалистов и модернистов: у одних — перспективы, у других — аксонометрии.
Круги
Круги художников и архитекторов в 1970-е и 1980-е мало пересекались. Многие встретились впервые в творческом любительском объединении «Эрмитаж», но Баухауза не образовали. Были общие выставки, оформление перестроечных международных кинофестивалей и арт-рок-парада «Асса», с 1987 года раздел бумажной архитектуры регулярно присутствовал в выставках молодых художников Москвы, СССР и стран социализма, но общности не возникало. Кто-то записал тогда бумажную архитектуру в соц-арт, очевидно, за ироничный характер большинства произведений. К соц-арту никто из нас отношения не имел, так как ни соцреализма, ни поп-арта, в бумажной архитектуре не было в помине. В соц-артисты можно было записать одного Сашу Зосимова с его эклектичными коллажами, но коллаж — не проект. Для меня все десятилетие 1980-х — это такой удивительный, уникальный, очень искренний всплеск творческой активности во всех сферах искусства, потом, к сожалению, быстро сошедший на нет.
К изводу бумажной архитектуры я стал думать о переложении этого явления на объект и реальное пространство, но обстоятельства сильно изменились, из архитекторов-бумажников только единицы сохранили способность переключаться на абстрактные задачи, и сделать выставку на эту тему получилось только в 2005-м, в Центре дизайна ARTPLAY. Это была междисциплинарная выставка «Игровая площадка», и в ней довольно органично соединилось и фабричное пространство, и работы очень разных художников и архитекторов так, что вникать в их цеховую принадлежность не приходилось.
Выставки
Архитекторы нередко проектируют выставки. Например, Фрэнк Гери на заре своей карьеры спроектировал выставку русского авангарда, в которой уже тогда можно было найти черты будущего деконструктивизма. Он же назвал дизайн выставок «фаст-фудом» архитектора, получающего возможность проверять пространственные и технологические идеи без обременений реальной архитектуры, а также возможность общения с кураторами и художниками, что, конечно, весьма расширяет кругозор. Что до меня, то проектирование выставок — это возможность не уходить из культурного поля, сохранять связь между архитектурой и искусством, которая в окружающем мире часто нарушена.
Первой спроектированной (а не только лишь собранной) стала для меня выставка молодых архитекторов на Международном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1985 году. Длинное пространство галереи ЦДХ с видом на Москву-реку было распланировано как железнодорожный вагон, с отсеками-купе в плане и протяженным коридором вдоль глухой стены. На стене расположился ряд крупноформатных портретов героев советской архитектуры, а в отсеках — работы молодых советских архитекторов. Архитектура выставки мастерилась из подвешенных к потолку листов толстого гофрокартона, идеологические лозунги, сопровождающие выставку по правилам того времени, «лыжной» лесенкой бороздили коридор, смещаясь внутрь отсеков. Каждое утро я приходил в Дом художника, добирался до выставки, начинал движение по коридору, ощущая телом, как диагональ направляет меня внутрь отсеков, и уходил счастливый.
Фабрика утопий
В первый раз работы бумажных архитекторов экспонировались вместе с мастерами советской архитектуры из фондов ГНИМА им. А.В. Щусева на выставке «Бумажная архитектура. Фантазии и утопии» в парке Ла Виллет в Париже в 1988 году - 100 проектов из 170 в общей сложности. Это было и нахально, и почетно — выставляться в такой компании и в таком городе.
Выставка «Фабрика утопий. Русская визионерская архитектура в XX веке», охватывающая период с 1914 по 1994 год проходила в Аптекарском приказе Музея архитектуры. Собирая ее, я определил характер концепции как орнитологический: это выставка белых ворон — Ивана Леонидова, автора фантастического Города Солнца, никому не известного Гамон-Гамана, сочинявшего Города Будущего в трудовом лагере на севере, Сергея Грузенберга, ушедшего из архитектуры в книжную графику или Николая Красильникова, выпускника Вхутемаса, на старости лет начавшего проектировать супервысотные дома… 50 авторов, 100 произведений.
Продолжением выставки стала инсталляция «Русская утопия: депозитарий» на венецианской биеннале 1996 года. В ней было уже 480 работ на тему российского сослагательного проектирования за последние 250 лет. Я старался собирать проекты, которые и сейчас было бы интересно построить, и представлял депозитарий как банк ДНК, хранящий проекты до того катастрофического момента, когда современная архитектура окажется бесплодной.
Непостроенное
Строго говоря, бумажная архитектура — это архитектурные проекты, изначально не предназначенные для непосредственного строительства. Есть и другие проекты — те, что в свое время по тем или иным причинам — психологическим, технологическим или экономическим — реализованы не были. Многие из них обладают определенным культурным обаянием, которое позволяет вычленять их из обычного документооборота и числить в памятниках архитектуры. Не предназначенное для строительства, «нестроимое» и непостроенное — понятия довольно разные, но если приглядеться, то граница между ними окажется размытой. То, что казалось невозможным реализовать вчера, вроде летающих городов, вроде свифтовской Лапуты, сегодня, пожалуйста, крутится над нами в виде космической станции; а вот построить сегодня аутентичную виллу римского патриция практически нереально — и по деньгам, и по строительному мастерству.
Архитекторы профессионально ориентированы на результат, а не на сопутствующие процессу согласования бумаги, как профессиональные киллеры — на конкретное убийство, а не на явку с повинной. Адольф Лоос уничтожил значительную часть своего архива с тем, чтобы будущие интерпретаторы имели дело только с его постройками; «внутренний закон» архитектуры по Лоосу не допускал рождения из ее чрева чего-то другого, кроме зданий. Графике предстояло рождаться от других матерей. Лоос не мог предположить, что в искусстве, невзирая на древние табу, возможно кровосмешение. В зачатии, то есть концепции, принял участие модернизм, а акушером, aka генератором, стали новые медиа.
Поколения
Обращение архитекторов к утопиям происходит довольно регулярно, каждые лет 20–25, то есть через поколение. В ХХ веке первая волна утопий пришлась на 1910–1920-е, была связана с Антонио Сант’Элиа, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем, Эль Лисицким, Иваном Леонидовым, Велемиром Хлебниковым, Яковом Черниховым и еще много с кем. Они предвидели будущее. Будущее предвидел и Евгений Замятин, написавший в 1920 году роман-антиутопию «Мы», действие в котором происходит в городе тотальной прозрачности. Как «мы» теперь знаем, утопия может легко обернуться антиутопией, как обетованные землянитам планиты — Новыми Черемушками… В 1940-е по понятным причинам архитекторы больше занимались саперным делом и камуфляжем, а в послевоенное время восстановлением разрушенного. В 1960-е произошло очередное возрождение жанра утопического проектирования. Говорят, 1960-е были самыми благополучными годами в истории человечества, у нас «оттепель» — у них времена «поп». В космос летали, на Луну высаживались, будущее было в моде, города будущего проектировали повсеместно. На той стороне были Иона Фридман, «Аркигрэм» и японские метаболисты, на нашей — группа НЭР («Новый элемент расселения»), Локтев, Пчельников и другие. Группа НЭР в 1968 году выставлялась на Триеннале в Милане — большая тогда для советских архитекторов редкость. До этого года из русских в миланском Палаццо дель Арте выставлялся только Константин Мельников в 1933-м. Следующими россиянами (еще советскими) после НЭРа были мы с выставкой «Бумажная архитектура. Фантазии против утопий» в 1988-м. Через поколение.
Концепции
В бумажной архитектуре стоит различать собственно проектную часть и программную, концептуальную. Все профессиональные архитекторы проектируют. Все чертят, рисуют, макетируют. Концептуалистами становятся единицы. Как в музыке — многие плохо или хорошо исполняют и немногие плохо или хорошо сочиняют. Концептуальное проектирование — это надстраивание вертикали, а не застройка горизонтали, моделирование образцов, а не копий, мода от-кутюр, а не прет-а-порте. Концептуальное переживается как индивидуальное, инновационное, иррациональное, интенсивное и интравертное. Как идея. «Как принцип», по выражению Мельникова.
Илья Лежава как-то ввел простые критерии оценки конкурсного проекта: «концептуально и талантливо» с вариациями «талантливо, но не концептуально», «концептуально, но не талантливо» и «неталантливо и неконцептуально». В небольшой команде под его руководством мы как раз работали над проектом парка Ла Виллет в Париже, нарисовали огромное количество эскизов и в конце концов, сделав ставку на «талант», а не на «концепцию», изобразили что-то вроде социалистического парка культуры и отдыха в постмодернистском духе. Победили, как мы помним, концептуальные, программные, деконструктивистские проекты Чуми и Колхаса.
Сказки
Интересно, что в отличие, скажем, от архитектуры реальных зданий, концептуальные проекты 1980-х не сильно устарели. Главная причина может быть в том, что будучи свободным от заказчика и конкретных обстоятельств места, архитектор в своем «проекте проекта» одновременно выдумывал и архитектурный объект, и среду, в которой он появлялся как Deus ex machina. Явление архитектора в качестве творца — редкое в наши дни, вспомните, как в России помыкают архитектором сегодняшние заказчики, будь он хоть Прицкеровским лауреатом. А здесь едва не в каждом проекте чудесное рождественское настроение — вот какой-то депрессивный, бедствующий, убогий, безрадостный, скучный, забытый населенный пункт, а вот явление героя-архитектора со своим творением — все застывают в изумлении: на краю мрачного города вырастает хрустальный дворец; в залив вплывает веселый гастрольный театр; в монотонном хаосе современной застройки обнаруживается беседка для медитаций; дворы спальных районов заполняются ровными акрами нетронутой природы… Сказки не стареют. Дистопия в них соединяется с утопией — и каждый верит в чудо, зритель-читатель бумажного проекта начинает верить, что не все вокруг так темно, что есть еще надежда, что придет архитектор, посветит прожектом-прожектором и найдет запасной выход в лучшее будущее.
Авангард
Любое великое явление в мировой истории культуры замечательно выходом за рамки частного и национального. Таблица Менделеева, слава богу, не выражает национального духа, как бы некоторым этого, может быть, ни хотелось. Русский авангард для всего мира стал периодической таблицей — его изучают, с ним работают, на него, как на икону не молятся.
Вообще говоря, архитектура по спирали не развивается. Каждый известный период в ее истории — это застывший образец «химического» соединения из времени, культуры и строительной технологии. Лучше не бывает, бывает по-другому. Хотя все, что многим из нас остается, — это худо-бедно следовать уже известным образцам. И вот еще: основные достижения современной архитектуры связаны с именами двух садовников — Жозефа Монье, изобретателя железобетона (у нас он известен благодаря сводчатому перекрытию) и Джозефа Пакстона, строителя теплиц из стекла и металла и Хрустального дворца, а современного градостроительства — с именем Джозефа Базалджета, инженера, построившего лондонскую канализационную систему в середине XIX века. Будущее архитектуры XXI века предстоит, по-видимому, искать в предыдущем веке, когда был изобретен компьютер. Мне в этой связи кажется, что с внедрением в архитектуру компьютерного проектирования главной проблемой архитекторов скоро станет выживание; и не профессии, а людей в профессии. Кому нужны посредственные проектировщики, если компьютеры скоро будут справляться c их работой гораздо лучше?
Собрание
Селим Омарович Хан-Магомедов рассказал однажды историю про чистокровного арабского скакуна, подаренного русскому царю персидским шейхом. Скакуна держали на конном заводе, у него был свой дядька-ясельничий, ходивший за скакуном, как за царским отпрыском. Время от времени скакун дарил потомство какой-нибудь кобыле голубых кровей. Но вот случилась революция, а с ней и советско-польская война. На завод нагрянули красноармейцы реквизировать лошадей для участия в польской кампании. Дядьке не удалось защитить ценного коня, и тогда он записался в Красную Армию вместе с реквизированным скакуном. Как известно, через три года кампания бесславно закончилась, а тем временем в Москве была создана комиссия по учету императорских ценностей, в число которых входил и арабский скакун. Рано ли, поздно ли комиссия добралась и до конного завода, но скакуна не обнаружила, нашла только старого дядьку, который рассказал печальную историю, как после разгрома под Варшавой вынужден был с конем долго пробираться на российскую территорию. Передвигаться пришлось по польским деревням, где бесплатно кормить коня никто не соглашался, только за случку с местной беспородной кобылой. Благородный скакун, прошедший войну, не выдержал тягот борьбы за выживание и околел, а комиссия поехала по описанным дядькой местам искать племенное потомство. «Так и я, —закончил свою историю Селим Омарович, — ищу потомков Николая Ладовского».
Фантазия
Кому-то может показаться странным, что под многими листами из собрания бумажной архитектуры стоят подписи нескольких авторов. Но если помнить, что бумажная архитектура — это, во-первых, проекты, а проектное дело творится в коллективах, то понятно, что бумажники имитировали частные архитектурные бюро, отсутствовавшие в советской действительности. Во-вторых, это архитектура кухонная, ведь большинство конкурсных проектов создавалось не в мастерских (мало у кого они были), не на работе (не было принято), а по домам, где в те годы действовала интеллигентская привычка кухонных разговоров. А для разговоров нужна компания. Отсюда Бродский — Уткин, Буш — Хомяков — Подъяпольский, Кузембаев — Иванов… Там, где автор один — Мизин, Зосимов, Морозов — чаще нужно искать не проект, а фантазию.
Архитектурная фантазия, или иначе capriccio была изобретена в XVIII веке, естественно, в Италии, где мода на античные руины создавалась великими художниками, преимущественно в живописи и декорации, будучи жанром не проектным, а изобразительным. У Джованни Пиранези в «Фантастических изображениях тюрем» больше пугающего настроения, чем пыточной инженерии; у Якова Чернихова в «101 архитектурной фантазии» больше иллюстративного из занимательной геометрии, чем технического изобретенного.
Фантазия или, иначе, деятельность воображения - запрещенная активность в романе-антиутопии Евгения Замятина Мы. В тоталитарном обществе люди лишены воображения от рождения, а те немногие в которых этот атавизм пробуждается, лишаются способности к воображению принудительно. Фантазия в романе - это болезнь, от нее лечат облучением. Носители фантазии по Замятину «безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики» - все нуждаются в изолировании от здорового общества.
Башня
Как известно, в реальности все времена присутствуют вечно, а прошлое, настоящее и будущее живут как страницы книги под одной обложкой. Люди привыкли читать книгу с первой страницы до последней, но на самом деле это вовсе не обязательно. Некоторые художники способны открывать книгу в любом месте, как на прочитанной странице, так и на недочитанной. Вавилонская башня в картине Питера Брейгеля представлена и как проект человека — построить башню до небес, и как проект бога — остановить богохульное строительство, строители и монтируют и демонтируют построенное в одно и то же время. Все на этой стройке заняты, но чем — везут на стройплощадку камень или воруют, как в Колизее на частные нужды, должна ли стройка завершиться первозданной пустыней или, преодолев коммуникативный хаос, достичь неба, нам, зрителям неведомо. В офорте Бродского — Уткина Стеклянная башня, башня была достроена и рассыпалась на осколки уже потом. Но по тому, как она рухнула — не вертикально, отпечатавшись на земле своим планом, а по направлению на северо-восток, распластавшись по равнине фасадом, можно предположить как то, что разрушительное воздействие было мгновенным и суровым, так и то, что прозрачная башня все еще невредимо стоит, а видим мы в лучах заходящего солнца ее длинную тень. Нет, не может такого быть — смотрите, гораздо более материальные тени от лежащего рядом города тянутся строго на юг — не могут над Землей стоять два солнца. И не может солнце, вопреки законам природы светить с севера, значит этот город — либо мираж, либо из-за пределов графической рамы только что пролился небесный огонь, и через секунду следом за тенями полетят и город и его жители. Если, конечно, дело не происходит в южном полушарии. Там другие законы.
Китайский шар
Для декабрьского номера «Декоративного искусства» 1987 года группу бумажных архитекторов попросили написать свои творческие манифесты. В манифесте Буша — Хомякова — Подъяпольского творческий метод был описан как китайский шар — «это образец пространственного и декоративного единства и эмоциональной гармонии». И дальше: «То, на что провоцирует изучение и постижение Шара, — бесконечное очищение, освобождение от лишнего, стремление к пространственной логике и главное — к простоте». Их проект «Куб бесконечности», внутри которого в зеркальных витражах бесконечно размножалась крестообразная конструкция, полностью заполняя собой куб, казалось, этот манифест иллюстрирует. Как мог бы его иллюстрировать проект Владимира Тюрина «Интеллектуальный рынок», представляющий собой губку Менгера, геометрический фрактал или «систему сквозных форм, не имеющих площади, но с бесконечными связями, каждый элемент которой заменяется себе подобным». Или проект Сергея и Веры Чукловых «Пространство цивилизации XXI века» с заворачивающимися в спираль концентрическими квадратами: «Все глубже проникая в природу, мы оставляем за собой геометрический пейзаж. XXI век: от камня, брошенного в воду, идут квадраты». Во всех примерах божественная геометрия порядка противостоит хаосу людской суеты и из окружающего хаоса вырастает, как утопия вырастает из дистопии.
Архитектура — это китайский шар. Она как матрешка, состоит из последовательности подобных оболочек; она как каббалическая сфера, внутрь которой Всевышний спустил тонкую линию света; и она остается архитектурой, изображаем ли мы ее кукольным домом или вселенским храмом, макетом или постройкой.
Вся вселенная — это китайский шар. Материя, как теперь доказано, однородна и изотропна, то есть у нее нет осей вращения, иерархии, в пространстве она распределена равномерно, не зависит от места наблюдения, а значит, и архитектура вселенной по большому счету однородна, и китайский шар, если вообразить его бесконечно большим, это положение иллюстрирует. Если архитектура вселенной изотропна, то почему не быть изотропной архитектуре человека? Даже если она в своих конкретных проявлениях пребывает в формах иерархичных, симметричных, недемократичных, если зависит от точки зрения наблюдателя и зависима от времени обозрения, по большому счету, где-то там далеко архитектура стремится к чистоте и простоте.
Less is more
«Меньше — значит больше» — эту фразу-заповедь с 1947 года приписывают Людвигу Мис ван дер Роэ. «Меньше — больше» определяет философию минимализма в искусстве и архитектуре как достижение большего эффекта наименьшими средствами. Встречалась фраза и у Бакминстера Фуллера в определении его термина «эфемерализация» как способность технического прогресса создавать «все больше и больше с меньшим и меньшим усилием до тех пор, пока в конечном итоге вы не сможете делать все из ничего». В английском языке выражение «меньше — больше» впервые прозвучало в поэме Роберта Браунинга «Безупречный живописец» в 1855 году. Поэтическое опередило проектное на сто лет. Справедливости ради — еще до Браунинга «меньше — больше» или Und minder ist oft mehr… было сказано немецким поэтом эпохи рококо Христофом Мартином Виландом в 1774 году, так что не вполне ясно, из какого языка Мис ван дер Роэ заимствовал знаменитый афоризм — из родного немецкого или международного английского. Сам Мис вспоминал (по-английски), что впервые услышал эту фразу от Петера Беренса (то есть по-немецки), когда работал у него в мастерской в конце 1900-х годов, но у Беренса она относилась лишь к числу ненужных эскизов, выполненных молодым энергичным подмастерьем.
В дипломной мастерской на Трубной в самый расцвет постмодернизма у меня появился лозунг: «Город — это когда много!» В отсек заглянул заведующий кафедрой градостроительства Николай Николаевич Уллас, прочитал лозунг, сказал как отрезал: «Город — это когда мало!», подумал и резюмировал: «Город — это когда в самый раз!»
О нас
Когда мы поступали в архитектурный институт в 1970-е, то не думали, что станем последним поколением советских архитекторов — как известно, в 1991 году Советский Союз распался. Когда мы учились изображать новую архитектуру карандашом, тушью, пером, красками, то не представляли, что станем последними, кому это рукодельное умение было передано — сейчас архитектуру изображают при помощи компьютерных программ. Когда мы начинали участвовать в конкурсах архитектурных идей и получать международные премии в 1980-е, то не предполагали, что эти работы окажутся в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи или Центра Помпиду... Все это говорит о том, что архитекторы — неважные провидцы. Но будущее есть в проектах, которые здесь представлены. Будущее, в котором мы живем или могли бы жить. Будущее, воображенное графическими средствами прошлого. Частная утопия в тотальной дистопии.
О себе
Я не придумывал бумажной архитектуры — она существует с тех пор, как архитектурные проекты стали изображать на бумаге. Это выражение использовали во Франции и Италии во времена Пиранези, Леду и Булле, оно ходило и в России в 1920–1930-е годы, им пользовались, когда я учился в институте. Все это, разумеется, разные «архитектуры». Моя заслуга, может быть, в том, что, апроприировав название, я приложил его к конкретному явлению, появившемуся тогда в советской архитектуре. Так получилось, что я был для многих пропагандистом и организатором участия в международных конкурсах архитектурных идей, а потом участия в выставках, отечественных и международных. Сами проекты и премии — заслуга большой группы, или как стали говорить, «группировки» молодых архитекторов одного поколения, которому я принадлежу.
Собрание архитектурных проектов и фантазий в этом издании не претендует на исключительную полноту и методологическую чистоту — во многом оно характеризует вкусы своего собирателя, и потому названо антологией, или «собранием цветов, цветником» по-гречески, а не хрестоматией. Это не учебное пособие.
Бумажная архитектура. Антология